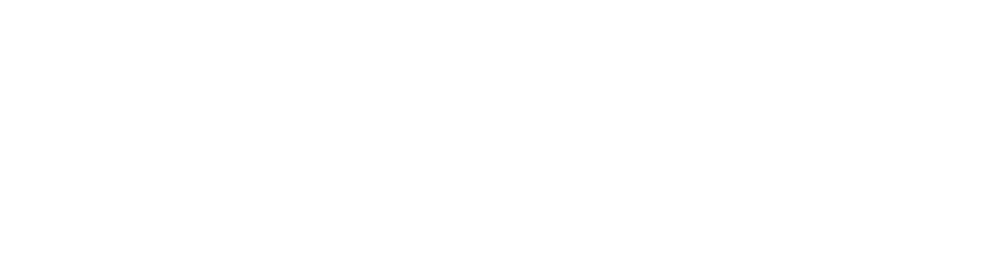Игорь Дьяконов в Армении: воспоминания о раскопках на Кармир-блуре. Часть I

«В последний день в поезде я подошёл рано утром к окну в коридоре вагона и увидел жёлтую, выжженную степь Араратской долины, зелёную полосу вдоль невидимого Аракса, необычайной, не нашей голубизны небо и в нём — висящий белый с розовым краем конус Арарата. Низ его, покрытый растительностью, синий из-за атмосферной дымки, полностью сливался с фоном неба — даже лёгкого очертания видно не было; великая гора парила в пространстве. Я стоял ошеломлённый. Это была любовь с первого взгляда и навеки. Кроме Норвегии, я никогда не любил так, как Армению, ни одной чужой страны, а видеть их мне потом довелось много», — писал учёный Игорь Дьяконов в своих воспоминаниях.
Игорь Михайлович Дьяконов (1915-1999) — лингвист, историк, специалист по шумерскому языку, древним письменностям и истории Древнего Востока.
Родившись в Петрограде, Дьяконов с ранних лет проявил интерес к истории и языкам. Его научная карьера началась в Эрмитаже, где он работал в Отделе Древнего Востока. Уже в молодые годы Дьяконов участвовал в археологических экспедициях, в том числе в Армению, где проводились раскопки урартского городища Кармир-блур. Этот опыт, описанный им в ярких и живых воспоминаниях, сыграл важную роль в формировании его научных интересов. Дьяконов получил степень доктора исторических наук в 1960 году. Его глубокие знания древних языков, в частности шумерского, позволили ему расшифровать и интерпретировать множество клинописных текстов, проливая свет на историю и культуру древних цивилизаций.
Одной из самых известных и, пожалуй, самых спорных работ Дьяконова стала его книга «Происхождение армянского народа» (1968). В ней учёный, основываясь на данных сравнительной лингвистики и исторических источниках, представил свою миграционно-смешанную гипотезу этногенеза армян. Согласно Дьяконову, протоармяне, индоевропейское племя, мигрировали на Армянское нагорье с запада, где они смешались с местным населением, включая хурритов и урартов. В результате этого смешения возник армянский этнос, сохранив основу индоевропейского языка, но заимствовав значительную часть лексики у хуррито-урартских языков. Дьяконов предполагал, что протоармяне могли быть родственны племенам мушков.
Теория Дьяконова вызвала бурную реакцию в научном сообществе, особенно в Армении. Многие армянские историки отвергли гипотезу Дьяконова, настаивая на автохтонном происхождении армян и связывая их с древним государством Хайаса, существовавшим на Армянском нагорье во II тысячелетии до н. э. Критика теории Дьяконова исходила и от других учёных. Лингвист Вячеслав Иванов, автор альтернативной гипотезы индоевропейского праязыка (совместно с Т. Гамкрелидзе), считал выводы Дьяконова относительно родственных связей армянского языка ошибочными. Современные исследования также подвергают сомнению близость греческого и фригийского к фракийскому и армянскому, которую предполагал Дьяконов.
Несмотря на критику и споры, работа Игоря Михайловича Дьяконова внесла значительный вклад в изучение истории и языков Древнего Востока, включая проблему происхождения армянского народа. Важно помнить, что научный поиск — это процесс, допускающий разные интерпретации и подверженный пересмотру. Дьяконов, как и любой учёный, имел право на собственные выводы, даже если они не совпадали с устоявшимися представлениями.
Отвлекаясь от сложных научных дискуссий, обратимся к живым и непосредственным воспоминаниям Дьяконова о его работе в Армении. В них отражается не только научный интерес молодого исследователя, но и его восхищение красотой армянской природы, величественностью Арарата, а также бытом и культурой местного населения. Эти воспоминания — ценный источник сведений о реалиях археологических раскопок того времени, о трудностях и радостях полевой работы, о взаимоотношениях внутри экспедиции. В них встречаются имена видных учёных, таких как Борис Пиотровский, что добавляет документальной ценности этим записям.
Воспоминания Дьяконова о раскопках на Кармир-блуре позволяют погрузиться в атмосферу научного поиска, увидеть изнутри процесс археологических открытий. Они дополняют сухие научные трактаты живыми деталями, делая историю более осязаемой и близкой. Читатель становится свидетелем того, как из-под слоя земли постепенно проступают контуры древних строений, как находятся артефакты, которые помогают реконструировать прошлое.
И.М. Дьяконов. Книга воспоминаний / Часть первая. Детство и юность / Глава 11 (с. 465-472):
«А на сентябрь 1939 года Эрмитаж запланировал археологическую экспедицию в Армению для раскопок урартского городища, и в этой экспедиции должен был участвовать и я.
Б.Б. Пиотровский в течение многих лет, до 1937 года, в сопровождении А.А. Аджяна и Л.Т. Гюзальяна, обходил Армению и регистрировал её городища в поисках урартских. Наконец, он остановился совсем близко от Еревана, на большом, очень сохранном городище Кармир-блур, на склонах которого одним геологом был найден обломок клинописной надписи. Была договорённость начать здесь совместную археологическую экспедицию: один отряд от Эрмитажа во главе с Б.Б. Пиотровским (научные сотрудники Е.А. Байбуртян, недавно раскопавший интересное городище Шенгавит, и И.М. Дьяконов, которого взяли в расчёте на находку урартских надписей), другой отряд, чисто армянский, от Музея Армении, во главе с Каро Кафадаряном.
Урартская клинопись (в надписях по камню) чрезвычайно сходна с ассирийской, и поэтому читается очень легко. Но урартский язык не имеет ничего общего ни с семитскими (включая аккадский), ни с индоевропейскими — вероятна его связь с кавказскими языками. В ожидании находок надписей я решил изучить урартский язык. Считалось, что его знают три человека за рубежом (И. Фридрих, А. Гетце и М. де Церетели) и два человека в СССР (академик И.И. Мещанинов и Б.Б. Пиотровский). Иван Иванович был недоступен, и я обратился к Борису Борисовичу. Он сказал, что тут нечего учить: эргативный падеж (падеж действующего лица) кончается на -tue, абсолютный — без окончания или на -ni, первое лицо переходного глагола кончается на -уби, непереходного — на -ади, третье лицо переходного — на -уни, непереходного — на -аби. После этого он выдал мне шуточное удостоверение об успешном окончании полного курса урартского языка и посоветовал прочесть не толстую книгу И И. Мещанинова «Язык ванских надписей, часть II», а тоненькую немецкую книжечку И. Фридриха.
На самом деле грамматика урартского языка замысловатая и трудная, но это я познал уже сам, разбираясь в надписях, когда составил полную картотеку всех встречающихся грамматических форм, и не доверял ничему написанному по урартской грамматике до меня. Но это было много позже.
В этом году Борис Борисович успел уехать в экспедицию до того, как я вернулся из отпуска, и я сразу же, едва заявившись в Эрмитаже и в Университете, отправился догонять его в Ереване. В последний день в поезде я подошёл рано утром к окну в коридоре вагона и увидел жёлтую, выжженную степь Араратской долины, зелёную полосу вдоль невидимого Аракса, необычайной, не нашей голубизны небо и в нём — висящий белый с розовым краем конус Арарата. Низ его, покрытый растительностью, синий из-за атмосферной дымки, полностью сливался с фоном неба — даже лёгкого очертания видно не было; великая гора парила в пространстве.
Я стоял ошеломлённый. Это была любовь с первого взгляда и навеки. Кроме Норвегии, я никогда не любил так, как Армению, ни одной чужой страны, а видеть их мне потом довелось много.
В Ереване поезд остановился почему-то не у перрона, а на путях; я спрыгнул с высокой лесенки-подножки вместе с чемоданом — и растянул связку на ноге. Еле добрался до заказанного мне места в номере Бориса Борисовича (гостиница «Интурист», теперь — «Ереван») — и три дня не мог выезжать на раскоп. <…>
Город тогда посмотреть мне не удалось — Борис Борисович был требовательный начальник. В половине шестого утра он вставал и надевал мне на нос очки, отчего я просыпался. Затем мы быстро одевались, умывались, что-то наскоро ели и выезжали на раскоп. С раскопа мы возвращались вечером смертельно усталые, и бродить по городу не хотелось, да и в городе не так легко было объясняться — по-русски тут не говорили, — но иногда Б.Б. водил меня в гости к архитектору Н.М. Токарскому. Помню с тех времён прямую, мощённую брусчаткой улицу Абовяна, зелень деревьев, двух-трёхэтажные каменные дома с решётками-сетками на окнах первых этажей; улица поднималась к строившемуся зданию Оперы; по сторонам от неё ещё сохранились кое-где восточные кварталы, с узкими улочками между глинобитных грязно-белых домов; трамвай провозил нас через ворота ещё не снесённой, тоже сырцовой, городской стены. Помню великолепную скульптуру Давида Сасунского на скакуне.
Ехали мы на раскопки почти до самого места на трамвае. Жара даже утром стояла невыносимая, а к вечеру пассажиры по большей части вообще не входили в «салон» трамвая, а ехали большими гирляндами на «колбасе», на подножках, а главное — снаружи, прицепившись за полностью открытые окна. Никто, конечно, не платил, кондукторши (русские) бранились — бесполезно. Мы с Б. Б., однако, ездили всё же внутри трамвая. <…>
От конечной остановки трамвая нужно было идти по жаре пешком. Рядом с городищем лежала маленькая азербайджанская деревня, с домиками из сырцового кирпича и почти слепыми стенами; её кладбище (необработанные грубые вертикально поставленные камни без надписей) находилось на склоне Кармир-блурского холма. От городища деревню отделяла тенистая рощица фруктовых деревьев, где бежала чистая вода для её орошения, и было видно, как от воды всё дивно зеленеет, а отойди на шаг — растрескавшаяся серая сухая, бесплодная земля, лишь кое-где колючки или полынь.
За рощицей простиралась большая плоскость городища — сухая земля, мало покрытая даже полынью, забросанная камнями. Справа возвышался собственно холм Кармир-блур — отчётливый, явно скрывающий под собой большое здание. На его правой вершине высилась разрушенная средневековая церковка.
В центре плоской части городища уже велись работы под руководством Е.А. Байбуртяна и Каро Кафадаряна. Был вскрыт фундамент дома; от стен не сохранилось ни следа, и утвари никакой найдено не было — только бесформенные обломки черепков. Накрапывал лёгкий дождичек из набежавшей тучки; но скоро прошёл.
Так как у меня не было пока никакого определённого дела, Борис Борисович позвал меня подняться с ним на главное городище. Под ногами, окаймляя городище, быстро бежала по каменьям неширокая Занга; за ней опять виднелся низкий скальный обрыв и затем степь…»